«Мой знакомый гений»
 Вышла в свет книга известного писателя, прозаика и эссеиста Евгения Попова «Мой знакомый гений». Это беседы с известными личностями нашего времени: Василием Аксеновым, Беллой Ахмадулиной, Владимиром Войновичем, Евгением Евтушенко, Эриком Булатовым, Фазилем Искандером, Борисом Мессерером, Петром Струве, Юрием Любимовым, Сергеем Шнуровым и многим другими.
Вышла в свет книга известного писателя, прозаика и эссеиста Евгения Попова «Мой знакомый гений». Это беседы с известными личностями нашего времени: Василием Аксеновым, Беллой Ахмадулиной, Владимиром Войновичем, Евгением Евтушенко, Эриком Булатовым, Фазилем Искандером, Борисом Мессерером, Петром Струве, Юрием Любимовым, Сергеем Шнуровым и многим другими.
Автор книги любезно предоставил нам право публикации главы, касающейся известного коллекционера российского искусства, проживающего в том числе и на Лазурном берегу Франции,
Ренэ ГЕРРА.
Боже мой, как бежит время! Страшно сказать, но я дружу с Ренэ Герра уже более четверти века, познакомившись с ним, когда советская власть в лице М.С. Горбачева объявила «перестройку», меня восстановили в Союзе писателей СССР и даже отпустили погулять за границу - в Германию и Францию. Причем я был уверен, что еду туда не только в первый, но и в последний раз. Мы-то, советские туземцы, хорошо знали, чем заканчивается любая попытка преобразовать харю коммунизма в «социализм с человеческим лицом». А именно это и декларировали тогда «ПРОРАБЫ ПЕРЕСТРОЙКИ», большей частью отпрыски «комиссаров в пыльных шлемах», сгинувших на «этапах большого пути» или доживающих свой век на казенных подмосковных дачах. Которые, замечу, по сравнению с нынешними новорусскими дворцами выглядят бедными хижинами. В каком-то парижском кафе познакомил нас тогдашний отщепенец-эмигрант, а ныне видная литературная и общественно-политическая персона РФ поэт Юрий Кублановский. Вышло почти по Василию Розанову. Мы, сверстники, 1946 года рождения, как глянули друг на друга «острым глазком», так и подружились на всю, получается, жизнь.
 ЕВГЕНИЙ ПОПОВ: Ренэ, в кругах российской художественной интеллигенции ты, пожалуй, один из самых популярных персонажей, хотя есть люди, которые, мягко говоря, относятся к тебе НЕОДНОЗНАЧНО. Из-за того, что ты безукоризненно, практически без акцента говоришь по-русски, про тебя даже пустили слух, что ты вовсе не француз, а русский по фамилии Герасимов. Один человек всерьёз уверял меня, что ты незаконнорождённый сын русской графини из Ниццы. Скажи, пожалуйста, дорогой доктор филологии, почему сферой твоих интересов стало искусство именно России, а не (по алфавиту) Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Алжира и так далее.
ЕВГЕНИЙ ПОПОВ: Ренэ, в кругах российской художественной интеллигенции ты, пожалуй, один из самых популярных персонажей, хотя есть люди, которые, мягко говоря, относятся к тебе НЕОДНОЗНАЧНО. Из-за того, что ты безукоризненно, практически без акцента говоришь по-русски, про тебя даже пустили слух, что ты вовсе не француз, а русский по фамилии Герасимов. Один человек всерьёз уверял меня, что ты незаконнорождённый сын русской графини из Ниццы. Скажи, пожалуйста, дорогой доктор филологии, почему сферой твоих интересов стало искусство именно России, а не (по алфавиту) Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Алжира и так далее.
РЕНЭ ГЕРРА: То, что есть такие байки и легенды, мне приятно и лестно. Я уже сорок лет профессионально занимаюсь русской культурой, а первая моя встреча с Россией произошла на юге Франции, на Лазурном берегу, откуда я родом. Я совершенно случайно, еще подростком, встретился в Каннах с русскими так называемыми белоэмигрантами. Заинтересовался их судьбой и творчеством. Меня интриговало, как можно творить в отрыве от родины. Далеко не все из них являлись аристократами, но это были одарённые люди, как это часто случается с русскими.
 Эмиграция, с одной стороны, стала для них трагедией, с другой - удачей, спасеньем, шансом выжить и реализовать себя. В двенадцать лет я познакомился с поэтом Екатериной Леонидовной Таубер и со временем, можно сказать, стал её духовным сыном, отсюда, наверное, и легенда, что я отпрыск графини. Хотя мои родители - чистокровные французы, преподавали немецкий и математику, прадед был мелкий французский буржуа. А сама Екатерина Леонидовна, по мужу Старова, являлась дочкой доцента Харьковского университета, о её стихах писали Ходасевич, Бунин, Адамович. Много лет спустя я даже издал два её сборника.
Эмиграция, с одной стороны, стала для них трагедией, с другой - удачей, спасеньем, шансом выжить и реализовать себя. В двенадцать лет я познакомился с поэтом Екатериной Леонидовной Таубер и со временем, можно сказать, стал её духовным сыном, отсюда, наверное, и легенда, что я отпрыск графини. Хотя мои родители - чистокровные французы, преподавали немецкий и математику, прадед был мелкий французский буржуа. А сама Екатерина Леонидовна, по мужу Старова, являлась дочкой доцента Харьковского университета, о её стихах писали Ходасевич, Бунин, Адамович. Много лет спустя я даже издал два её сборника.
На юге Франции вообще русских было очень много. Я встречался с Сергеем Ивановичем Мамонтовым, из ТЕХ Мамонтовых. Он родился в России, учился в Берлине на архитектора, после войны уехал в какую-то африканскую страну, обустроил там имение и числился крепостником, пока его не выгнали и оттуда, когда Африка обрела независимость. Он читал мне отрывки из своей будущей книги мемуаров прямо на пляже в Каннах в начале 60-х. Такой сухой старик с прямой спиной и злой иронией. Он, например, мог сказать дочке «белого» генерала: «Да ваш папаша в носу ковырялся, когда мы с большевиками воевали!» Эта книга описывала Гражданскую войну глазами простого офицера. Мемуары получили одобрение Солженицына и вышли в парижском издательстве ИМКА-ПРЕСС, сейчас книга переиздана в России.
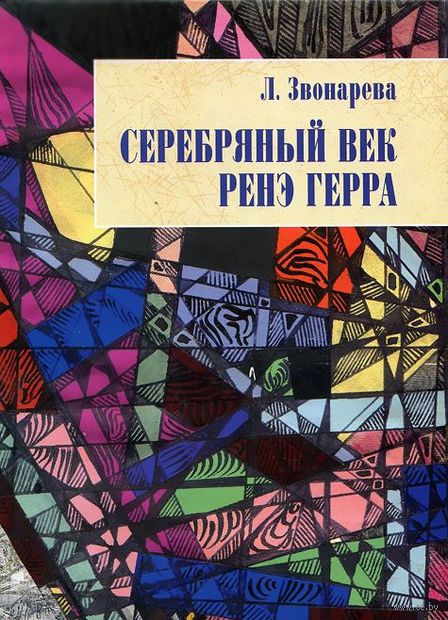 А в те годы практически НИКТО на Западе, особенно во Франции, русскими эмигрантами не интересовался. Это сейчас стало модным, за последние 10-15 лет, а тогда кому нужно было в Париже творчество Юрия Анненкова, Константина Сомова или даже Александра Бенуа? Кто знал о «мирискусниках»? О них как-то даже НЕ ПОЛАГАЛОСЬ писать и вспоминать. По-настоящему востребованы они не были. Когда я приехал в Париж в 1963 году, чтобы стать студентом Сорбонны, я хотел скорее познакомиться с русскими художниками, пока они ещё живы. И я был, практически, единственным из французских студентов-славистов, который нарушил негласное табу и общался с эмигрантами. Такие встречи не рекомендовались, более того, были противопоказаны тем, кто строил академическую карьеру. Эмигранты для многих интеллектуалов были люди прошлые, отработанные люди. А я считал, что у них было гениальное прошлое и, несомненно, есть будущее. Юрий Анненков был первым художником, проиллюстрировавшим «Двенадцать» Блока, портретистом, увековечившим литераторов - Ахматову, Пастернака, Ремизова, Шкловского и политиков - Ленина, Луначарского, Радека, Зиновьева, Каменева. Он - целая эпоха, и вдруг выясняется, что с ним можно общаться просто так, придя с улицы. Потому что никто им не интересовался. Не то что забыли, но это БЫЛО НЕАКТУАЛЬНО. И я встретился. Но не с Советским Союзом, а с Россией. Я общался с Георгием Адамовичем, Борисом Зайцевым, Владимиром Вейдле и прослыл в Сорбонне белой вороной. Считалось, что я дурак и сам себя компрометирую. Зачем он это делает, когда ему уже неоднократно намекали, что НЕ НУЖНО, советские товарищи могут обидеться?
А в те годы практически НИКТО на Западе, особенно во Франции, русскими эмигрантами не интересовался. Это сейчас стало модным, за последние 10-15 лет, а тогда кому нужно было в Париже творчество Юрия Анненкова, Константина Сомова или даже Александра Бенуа? Кто знал о «мирискусниках»? О них как-то даже НЕ ПОЛАГАЛОСЬ писать и вспоминать. По-настоящему востребованы они не были. Когда я приехал в Париж в 1963 году, чтобы стать студентом Сорбонны, я хотел скорее познакомиться с русскими художниками, пока они ещё живы. И я был, практически, единственным из французских студентов-славистов, который нарушил негласное табу и общался с эмигрантами. Такие встречи не рекомендовались, более того, были противопоказаны тем, кто строил академическую карьеру. Эмигранты для многих интеллектуалов были люди прошлые, отработанные люди. А я считал, что у них было гениальное прошлое и, несомненно, есть будущее. Юрий Анненков был первым художником, проиллюстрировавшим «Двенадцать» Блока, портретистом, увековечившим литераторов - Ахматову, Пастернака, Ремизова, Шкловского и политиков - Ленина, Луначарского, Радека, Зиновьева, Каменева. Он - целая эпоха, и вдруг выясняется, что с ним можно общаться просто так, придя с улицы. Потому что никто им не интересовался. Не то что забыли, но это БЫЛО НЕАКТУАЛЬНО. И я встретился. Но не с Советским Союзом, а с Россией. Я общался с Георгием Адамовичем, Борисом Зайцевым, Владимиром Вейдле и прослыл в Сорбонне белой вороной. Считалось, что я дурак и сам себя компрометирую. Зачем он это делает, когда ему уже неоднократно намекали, что НЕ НУЖНО, советские товарищи могут обидеться?
Е.П.: В самом начале 80-х в Москву приехала одна американская писательница и назначила встречу на квартире мне, Фазилю Искандеру и покойному Льву Копелеву. Мы выпивали, болтали о всякой литературной всячине, но, когда уходили, она попросила нас: «Пожалуйста, не говорите о нашей встрече корреспондентам, это может мне повредить». Я тогда, помню, сильно был поражен: ладно уж мы тут сидим под советской властью, как мышь под веником, но слышать такое от гражданки СВОБОДНОЙ СТРАНЫ! А твоя коллега-француженка, преподавательница русского языка, на мой вопрос, изучают ли в их колледже Солженицына, испуганно замахала руками - что вы, нас могут объявить антисоветским центром и тогда никому визу в СССР не дадут.
Р.Г.: Все очень знакомо… (Пауза.) Что очень важно, я получил русский язык еще в детстве, до переходного возраста. Поэтому, когда я поступил в Сорбонну, то уже вполне свободно говорил, читал и писал по-русски. Кстати, насчет «Герасимова» - эта легенда ведёт свое происхождение ещё из тех времен. Тогда русский преподавали как мертвый язык, а я говорил на живом, современном. Нужно же было другим, в том числе и профессорам, оправдаться, почему у них такой плохой русский! Ещё говорили, что я не только русский, но и советский, засланный… Чушь собачья! Меня потом, в 1969-м, когда я был аспирантом-стажёром, даже выперли из Москвы как «идеологического диверсанта», чтобы не смущал честные души советских людей «белогвардейскими» разговорчиками…
Е.П.: И вот ты приехал в Париж, погрузился в университетскую и эмигрантскую среду. У тебя сразу же возникла мысль о коллекционировании? Вернее - собирательстве, я знаю, что ты не любишь слово «коллекционер»… Или это случилось незаметно, само собой…
Р.Г: Когда мне было лет пятнадцать, я стал собирать открытки - виды России. Я хотел воссоздать свою Россию, Россию моих старших друзей. Потом я стал искать книги, изданные по-русски за границей крошечным количеством экземпляров. Меня изумляло - люди уехали из страны, которой больше нет, по крайней мере для них, а продолжают писать, печатать, как ни в чём не бывало, неизвестно для кого. Для будущей, что ли, России, освобожденной от коммунизма? Но тогда многим казалось, что коммунизм у вас будет вечно, ВСЕГДА, и нынешние перемены тогда были просто непредставимы. Или для других эмигрантов? Так и там просвещённых читателей было не так уж много. Когда ты целый день вкалываешь на заводах «Рено» или крутишь шоферскую баранку, вечером тебе скорей всего не до чтения. Их книги в Россию ввозить было запрещено, эти книги сами себя выдавали, хотя бы старой орфографией, отмененной в Советском Союзе. Эти люди жили вне времени и вне пространства. То есть они шли против течения. Ведь тем временем в СССР создавалась новая культура, важно именовавшая себя то пролетарской, то соцреалистической. В большей своей части, за редкими исключениями, она была чужда им и, соответственно, мне. И это было удивительное чувство: можно было купить замечательную книгу и на следующий день пойти к автору, чтобы он её надписал. Я со многими тогда познакомился, был бы жив тогда Бунин, я бы, наверное, и к нему сходил… В СССР это было бы невозможно - кто я такой, чтобы лезть к столь важным персонам, как кто-нибудь из ваших советских классиков? Я стал собирать русскую эмигрантскую книгу и периодику, мне это было доступно. У меня есть книги и журналы, изданные на русском языке в Шанхае, Харбине, Белграде, Праге, Риге, не говоря уже о Париже. Нехорошо говорить о собственных заслугах, но что есть, то есть: еще сорок лет назад я понял ценность всего этого. Понял, что рано или поздно эта ваша великая и чудовищная страна, Советская Россия, заинтересуется судьбой и творчеством своих изгнанников.
 Я был в этом убежден еще ТОГДА, что могут подтвердить мои студенты, которым я с 1975 года читаю лекции по русской эмигрантской литературе. Еще тогда я понял, что общаться с живым классиком Борисом Зайцевым, которого благословил на литературный путь Антон Павлович Чехов и чьим литературным крёстным отцом был Леонид Андреев, это - уникальная, немыслимая возможность. Мне, сопляку, маленькому студенту Сорбонны, он позволял сидеть у него часами… А какой у него было русский язык!.. Меня с детства умилял ИХ русский язык, эмигрантов первой волны… Кроме Зайцева, Адамовича, Вейдле, Анненкова я хорошо знал Сергея Шаршуна, ставшего знаменитым художником, встречался с Ириной Одоевцевой и так далее. Всех долго перечислять. Я счастлив, что захватил конец блистательного русского Парижа. Это ведь моя формула, которую теперь часто повторяют: русский «Серебряный век» начался на берегах Невы, а закончился на берегах Сены. Петербург, конечно же, преобладал в Париже, хотя и Москва была весьма достойно представлена. Все это было у нас, под рукой. И, спрашивается, почему их НИКОГДА не приглашали выступить... ну, хотя бы перед студентами Сорбонны?
Я был в этом убежден еще ТОГДА, что могут подтвердить мои студенты, которым я с 1975 года читаю лекции по русской эмигрантской литературе. Еще тогда я понял, что общаться с живым классиком Борисом Зайцевым, которого благословил на литературный путь Антон Павлович Чехов и чьим литературным крёстным отцом был Леонид Андреев, это - уникальная, немыслимая возможность. Мне, сопляку, маленькому студенту Сорбонны, он позволял сидеть у него часами… А какой у него было русский язык!.. Меня с детства умилял ИХ русский язык, эмигрантов первой волны… Кроме Зайцева, Адамовича, Вейдле, Анненкова я хорошо знал Сергея Шаршуна, ставшего знаменитым художником, встречался с Ириной Одоевцевой и так далее. Всех долго перечислять. Я счастлив, что захватил конец блистательного русского Парижа. Это ведь моя формула, которую теперь часто повторяют: русский «Серебряный век» начался на берегах Невы, а закончился на берегах Сены. Петербург, конечно же, преобладал в Париже, хотя и Москва была весьма достойно представлена. Все это было у нас, под рукой. И, спрашивается, почему их НИКОГДА не приглашали выступить... ну, хотя бы перед студентами Сорбонны?
Они были готовы сделать это бесплатно, возникла бы преемственность, они бы могли передать эстафету новому поколению… Нет! Их игнорировали, чтобы не сказать «презирали». Это - грустно и чревато дурными последствиями. Потому что их архивы большей частью либо погибли, либо уплыли в Америку, что, может быть, кстати, и к лучшему в смысле сохранности. Когда, извини, Павел Милюков, лидер кадетской партии, знаменитый историк, предложил свой архив Славянскому институту Парижского университета, этот архив принять отказались. Побоялись принять! Внучатая племянница Ивана Сергеевича Шмелёва хотела отдать его архив Сорбонне, отказалась и Сорбонна. Зачем-де нам этот фашист! Теперь его уникальные бумаги переданы Российскому фонду культуры… Таких примеров - множество, о чём я и написал в своих мемуарах, которые скоро будут опубликованы и, как ты понимаешь, не всем придутся по вкусу. Я не квасной французский патриот, но это - исторический факт, что Париж с середины двадцатых годов стал столицей всего русского Зарубежья, его культуры, когда по многим причинам закончился берлинский период эмиграции. Я считал и продолжаю считать, что долг Франции - создать центр изучения этой культуры и соответствующий музей. Именно во Франции, это было бы естественно. И для России, кстати, тоже неплохо, потому что служило бы общему делу. Вот мой подход… Я иногда горько острю, что в каком-то смысле мне повезло, и я благодарен Октябрьской революции, ибо по её воле смог общаться с такими выдающимися русскими людьми. А что касается СОБИРАТЕЛЬСТВА, то один из моих единомышленников как-то в шутку назвал меня парижским Иваном Калитой, собирателем земель Русских на чужбине. Сначала книги, потом, когда я стал преподавателем русского языка, то есть госслужащим с неплохой зарплатой, я стал покупать картины. Первое моё приобретение, я это точно помню, было в 1971-м, когда мне достались оригиналы иллюстраций Александра Бенуа, выполненные в 1927 году для книги Андре Моруа о Гёте. Я купил эти работы у старого русского коллекционера Глеба Владимировича Чижова. Это было началом моего собирательства, моего собрания, которое на 95% состоит из работ русских художников-эмигрантов. Открытки, книги, картины. Плюс - уникальные архивные материалы.
Е.П.: Ты говорил о передаче эстафеты младшему поколению. Мы ведь в СССР тоже жили и, извини за выражение, творили вопреки навязываемым государством шаблонам. И старшие тоже передавали нам свой уникальный опыт искусства и жизни. Я в юности часто общался и даже (горжусь!) иногда выпивал с замечательным писателем Юрием Осиповичем Домбровским, дружил со своим земляком, скульптором и литератором Федотом Федотовичем Сучковым, который, в свою очередь, будучи студентом, хорошо знал великого Андрея Платонова. И Домбровский, и Сучков отсидели немыслимое количество лет в сталинских концлагерях. А вот Семён Израилевич Липкин, старейший наш поэт и переводчик, которому в нынешнем 2012-м исполняется 91 год, к счастью, «на зону» не попал и в коммунистической мясорубке не сгинул, хотя его собственные стихи стали печатать у нас только в «новые времена». Я счастлив, что еще в начале 80-х имел возможность часами слушать его изумительные устные рассказы о Бабеле, Гроссмане, Платонове, Ахматовой, Зощенко, Паустовском, которых он знал так же хорошо, как и они его. Процесс шел… У тебя собралась огромная, уникальная, единственная, пожалуй, в мире коллекция зарубежного русского искусства и эмигрантской культуры. Ты бы не хотел, чтобы этой коллекцией занялось государство? Я не про наше государство говорю - у него один ответ: нет денег. Ты, в принципе, хотел бы, чтоб твоё государство тебе помогало? Или ты сам неплохо справляешься?
 Р.Г.: Повторяюсь, но до 1992-го, конца перестройки, там на Западе это было не актуально. Интерес ко всему, что у меня хранится, рикошетом появился ТАМ после ЗДЕСЬ. Москва всегда задавала тон, и после того, как обо мне и моём собрании стали писать в посткоммунистической России, стало невозможным не замечать меня и во Франции. Пикантно, что отдельные западные слависты сначала были в ярости: зачем Москва интересуется этим барахлом? Каким-то Ремизовым, каким-то «Солнцем мёртвых» Шмелёва, бунинскими «Окаянными днями»… Но против ветра не попрёшь, поэтому, безусловно, лишь после того, как этих авторов стали здесь перепечатывать, писать о них диссертации, ученые статьи, ситуация изменилась. Одна или две русских литературы в ХХ веке, об этом можно спорить, но теперь, кажется, понято хотя бы то, что творчество эмигрантов - важная часть русской культуры ХХ века…
Р.Г.: Повторяюсь, но до 1992-го, конца перестройки, там на Западе это было не актуально. Интерес ко всему, что у меня хранится, рикошетом появился ТАМ после ЗДЕСЬ. Москва всегда задавала тон, и после того, как обо мне и моём собрании стали писать в посткоммунистической России, стало невозможным не замечать меня и во Франции. Пикантно, что отдельные западные слависты сначала были в ярости: зачем Москва интересуется этим барахлом? Каким-то Ремизовым, каким-то «Солнцем мёртвых» Шмелёва, бунинскими «Окаянными днями»… Но против ветра не попрёшь, поэтому, безусловно, лишь после того, как этих авторов стали здесь перепечатывать, писать о них диссертации, ученые статьи, ситуация изменилась. Одна или две русских литературы в ХХ веке, об этом можно спорить, но теперь, кажется, понято хотя бы то, что творчество эмигрантов - важная часть русской культуры ХХ века…
Е.П.: Профессор Вольфганг Казак из Кёльна, автор знаменитого «Лексикона русской литературы ХХ века», считал, что эта литература - едина, поэтому его и не пускали в СССР лет двадцать. На букву «Б» в его словаре был писатель Брежнев, а на букву «С» - Солженицын.
Р.Г.: Вот и меня выслали примерно за то же самое. И покойный самоубийца Цвигун, заместитель шефа КГБ Андропова, вдохновенно врал в своей книге, что я тайный сотрудник радио «Свобода» и чуть ли не агент ЦРУ… Но чтобы всё-таки ответить на твой вопрос, я скажу, что моё единственное естественное желание, чтобы это собрание не распылилось. Это собрание должно меня пережить, и я уже принял для этого кое-какие меры юридического характера. Здесь нет меркантильного подхода. Моё собрание - не капиталовложение, а дело моей жизни. Я был и остаюсь человеком одержимым. Поэтому моя воля и моё желание, чтобы был создан не только музей, но и исследовательский центр. Или во Франции, что было бы наиболее естественным и целесообразным, или в другой стране.
Е.П.: Какой?
Р.Г.: Чувствую подтекст вопроса. Я и сам, как ты знаешь, будучи антисоветчиком и антикоммунистом, говорил до перестройки, что, по сути, всему, что у меня имеется, - место здесь, в России. Но, к сожалению, пока это нереально.
Е.П.: Чувствую подтекст ответа.
Р.Г.: Что я могу еще сказать? Не знаю, удастся ли мне устроить музей-центр, но очень этого хочу. Как всегда, я ИЩУ ЧЕЛОВЕКА, которого мог бы увлечь своим проектом. Мэр Исси-ле-Мулино, маленького городка под Парижем, где я живу уже много лет, депутат, бывший министр, человек умный, помог мне, дал денег на две выставки в рамках двухсотлетия со дня рождения Пушкина, и я надеюсь, что это - первый шаг. Он остался доволен выставкой, я - тоже… Вообще-то я считаю, что ваша страна должна интересоваться вашим наследием. Почему бы России, где есть, например, Газпром, есть богатые нефтяники, не создать такой центр на русские деньги хоть даже и в Париже, где он будет служить русской культуре и в конечном итоге российскому государству? Я бы считал, что это даже могло бы стать заботой Президента, если ему не безразличны судьбы русской культуры. Я с собой на тот свет ничего не возьму, никто из нас ничего не возьмёт. Поэтому я хотел бы, чтобы моё дело дальше могло жить и приносило пользу. Вот моё кредо.
Е.П.: Расскажи немного о своём собрании картин.
Р.Г.: Любая коллекция выдает вкусы и пристрастия её обладателя. Я ведь многих из представленных у меня художников знал лично, поэтому 15-20% собрания - это подарки. Когда художники поняли, что я не пойду торговать их картинами, что они копятся в одном месте, у меня, они стали дарить мне работы, которые ни за какие деньги не хотели продавать. И я ради памяти этих людей никогда не отказывал устроителям различных выставок, предоставлял работы бескорыстно, хотя несколько полотен в результате этого у меня просто-напросто украли. Но ведь и Анненков написал мой портрет бесплатно, когда я ещё был студентом, а он приходил ко мне в общежитие. И Александр Борисович Серебряков, который некогда был популярнее, чем его мама, знаменитая Зинаида Серебрякова, подарил, а не продал мне многие свои акварели. И великий Шаршун, который считал, что у меня к середине 70-х уже составилось приличное собрание русской живописи, одарил меня тремя работами Михаила Андреенко, художника и писателя, которого знал с юности. Мое собрание для меня - больше, чем собрание, это - часть моей жизни. Десятки тысяч единиц хранения. Тысячи писем Бунина, Набокова, Цветаевой, Бальмонта. Такого рукописного отдела нет, извини, и в вашем Государственном литературном музее…
Е.П.: А что ты сам считаешь жемчужинами коллекции?
Р.Г.: Трудно сказать… «Латинский квартал» работы Анненкова, 1925 год. Портрет княгини Марии Клавдиевны Тенишевой, основательницы Музея русской старины в Смоленске и «талашкинских» народных промыслов, работы Валентина Серова. Широко известный портрет Замятина работы Кустодиева. А вообще-то у меня два любимца: Юрий Анненков и Сергей Чехонин, член «Мира искусства», ушедший из жизни в 1936 году. Анненкова у меня около семисот работ, Чехонина - более двухсот, и оба этих художника у меня представлены лучше, чем во всех бывших советских музеях вместе взятых. Суммарно у меня около 5000 оригинальных работ более чем ста художников - масло, холст, гуашь, акварель, тушь, свинцовый карандаш, пастель, сангина. А вообще-то для меня самое ценное в моём собрании не изобразительное искусство, а всё-таки архивная часть. Ведь из 40 тысяч собранных мною книг четверть, около 10 тысяч, - с надписями и автографами. Особняком стоит русская поэзия в изгнании. Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Сергей Маковский, Цветаева, Бальмонт, Поплавский. Все с надписями. Я и сам издавал в своё время некоторых русских эмигрантских поэтов на свои деньги, ещё при их жизни. Но лучше всех у меня представлен Алексей Ремизов, у меня к нему особая слабость. 400 книг с надписями, несколько сот писем, рисунки, знаменитые рукописные книги, просто рукописи… Недавно приобрел ещё одну грамоту его «шутейного» общества «Обезвелволпал», «Обезьянья Великая Вольная Палата», пожалованную Ремизовым, как канцеляриусом этой палаты, эмигрантскому редактору и издателю Полонскому. Что еще? Часть архива Бунина плюс весь архив близкого ему человека Галины Николаевны Кузнецовой, который я получил по наследству будучи её душеприказчиком. Часть архивов Зайцева, Шмелёва, переписка Бальмонта, в том числе и неопубликованные письма Максима Горького. Архив Тенишевой. Сотни писем Цветаевой, Набокова, Гиппиус, Мережковского… Недавно достал уникальный экземпляр «Двенадцати» Блока со ВСЕМИ иллюстрациями, раскрашенными от руки САМИМ Анненковым, единственный в мире на сегодняшний день сохранившийся экземпляр!..

Р.Г.: Всех без исключения, кому это действительно нужно. Последнее время я в свой дом смотреть собрание и работать с ним пускаю ВСЕХ, хотя сам я человек довольно занятой, преподаю, работаю, пока что не пенсионер. У Олеши есть книга «Ни дня без строчки». Мой девиз - «Ни дня без находки».
Е.П.: А сегодня ты что-нибудь нашёл?
Р.Г.: Догадайся…
2012

